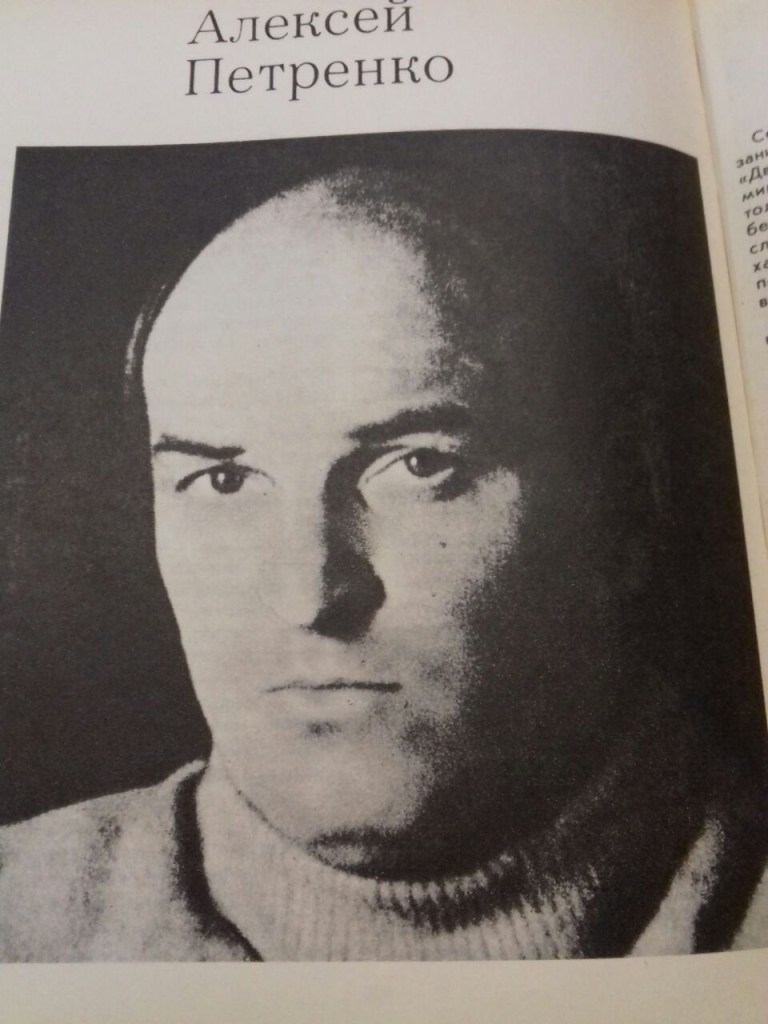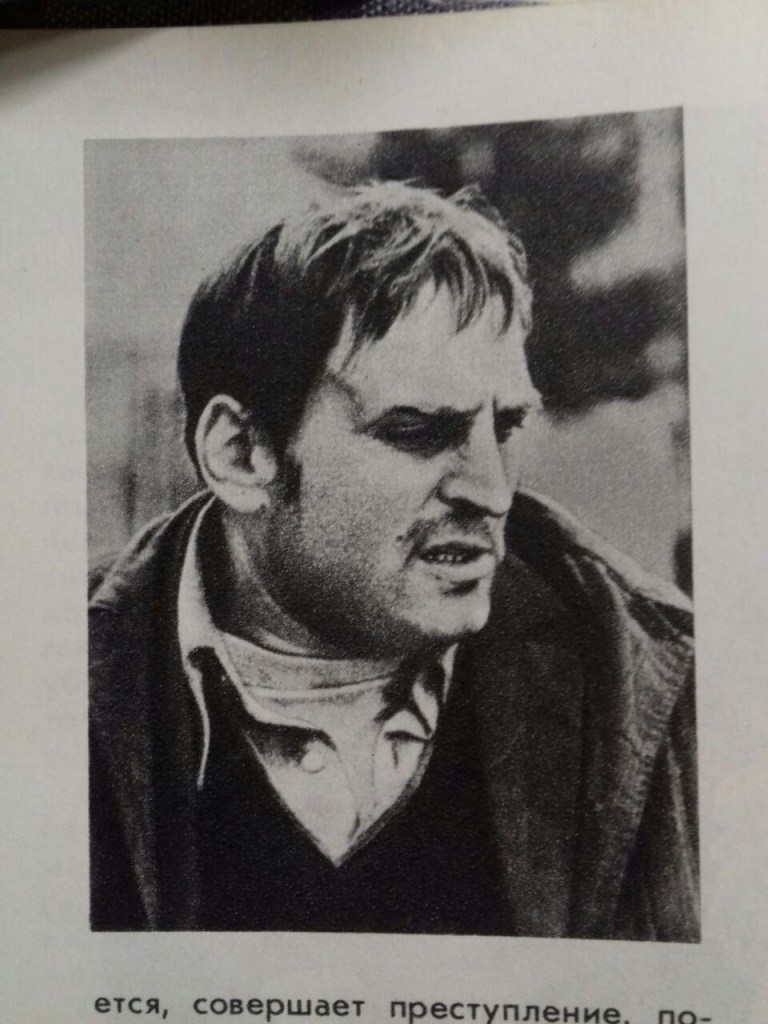Сборник «Актеры советского кино», Выпуск 15
Семь минут экранного времени занимает монолог летчика в фильме «Двадцать дней без войны». Семь минут крупного плана — в кадре только лицо и руки, семь минут без смены ракурса. Оторваться случайной мыслью, перевести дыхание невозможно — перед нами подлинная трагедия, связующая воедино чувства актера и зрителя.
Сюжет исповеди летчика случайному попутчику, журналисту Лопатину, прост и страшен: онрассказывает о том, как ездил с фронта домой, чтобы убить изменившую ему жену, и не убил. Не смог. Но и простить тоже не может. Если записать текст на бумаге, получится меньшестраницы. Весь остальной монолог — какие-то обрывки фраз, междометия, возникающие итут же гаснущие намеки на что-то, не совсем ясное и самому герою. Короткие всплески смеха, какого-то всхлипывающего, готового перейти в рыдания. Беспорядочная мельтешня рук. Все словесное и пластическое бормотание странным образом притягивает, заставляет напряженно всматриваться, вслушиваться, как будто есть тут тайны смысл, скрытый от героя. И чем безнадежней запутывается в противоречиях ожесточенный и растерянный человек с преждевременно обрюзгшим лицом, тем явственнее становится для нас не только характер конкретного персонажа, но и сокровенный смысл, история души, не просветленной нравственным знанием, потерявшейся, надорванной непосильной тяжестью выбора.
В роли — формально эпизодической (мы даже имени летчика не успеваем узнать) — кинозрители впервые увидели и запомнили Алексея Петренко. Не запомнить было невозможно, тем более что сразу вслед за «Двадцатью днями…» на экраны вышли «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и «Ключ без права передачи», где он играл главные и разительно непохожие друг на друга роли. Не прошло и года — последователи Гаврила Черноиваненко (телефильм «Волны Черного моря»), Слава Кулигин («Беда»), Подколесин(«Женитьба»), Игорь Петрович («Портрет с дождем»), вышла на экраны «Юлия Вревская», где Петренко играет русского солдата, одного из легендарных защитников Шипки.
Столь стремительного и яркого дебюта в нашем кинематографе не было давно. И при этом непокидает ощущение, что среди ролей Алексея Петренко еще не было той, которая в полноймере отвечает его возможностям.
Первое, что поражает в работах Алексея Петренко, — способность актера к головокружительным перевоплощениям. Он входит в роль так, что кажется, выход уже попросту невозможен. Заглядывает в такие тайники души человеческой, куда его герои опасаются добираться. Чего стоит одна только деталь в «Двадцати днях…». Рассказывая об участковом, который выманил у него слово не убивать жену — делай, мол, с ней, что хочешь, но чтоб без крови, — летчик ухмыляется, тычет пальцем в стол, стараясь объяснить всю хитрость уловки милиционера, так, как будто речь идет о проигранной партии, восхищаясь коварством противника и досадуя на собственную неловкость, в азарте дожидаясь следующей схватки.
Тут и опытный зритель обманется, решив, что актер играет если не лично ему знакомого человека, то близкий психологический тип.
Но Петренко и в следующей роли, ничем не похожей на предыдущую, а иногда противоположной, доберется опять до последней грани, до тайная тайных. Приступы бессилия у Подколесина, как и внезапное бешенство Петра, как и постоянное ощущение неловкости у Кирилла Алексеевича — нового директора школы («Ключ без права передачи») играются явным преобладанием интуитивно найденных, неожиданных психологических ходов. Тонкость и одновременно точность ходов столь разительны, что вряд ли могли быть достигнуты в результате аналитического постижения столь далеко отстоящих друг от друга характеров.
И еще одно редкое сочетание удивляет в Алексее Петренко: мощный темперамент, свойственный обычно натурам цельным и целеустремленным, соединен со способностью уловить малейшие и сложнейшие движения души человека, которую мы привыкли приписывать людям иного склада — более склонным к рефлексии, нежели к непосредственному и сильному чувству. Представьте себе тяжелоатлета, который был бы к тому же виртуозным фехтовальщиком, — в принципе возможно, но встречается редко. Однако именно такого сочетания требует от актера, например, Достоевский.
Но кроме дарования, которое потому ведь и называется «дарование», что дано природой в дар(только даром ли? не требуя ли взамен отдачи всего себя, до последнего?), есть в Алексее Петренко благоприобретенные качества. И они надежно гарантируют его от опасности оказаться на одной из ярких, но мимолетных комет на кинематографическом небосклоне. Вполне возможно, что именно в них заключен главный его секрет. У Петренко за спиной такая длинная, трудная и неровная дорога, что в интересах истины нужно говорить не о внезапной популярности (она лишь закономерное следствие, но никак не везение), а о том мощном и ровном creschendo, которым отмечен художнический рост актера.
По-настоящему ему повезло в жизни дважды.
В первый раз в юности, когда он поступил в Харьковский театральный институт, на курс, который вели старейший украинский актер, народный артист Советского Союза И. А. Марьяненко и преподаватель Т. К. Ольховский. Вполне вероятно, что у другого педагога здоровенный парень с Черниговщины, бывший матрос и молотобоец, не обделенный природой ни ростом, ни голосом, ни темпераментом, попал бы на амплуа героев и мирно прожил бы жизнь, эксплуатируя свои данные. Но Марьяненко по долгим и извилистым дорогам судьбы пронес память об учителе Лесе Курбасе, о его художественных принципах, которые во многом перекликаются с творческим кредо В. Э. Мейерхольда. Театр Курбаса — «Березиль» — был театром образным, чуждым унылому жизнеподобию. Курбас требовал от актеров умения выразить телом, жестом, голосом, темпераментом в острой и точной форме суть образа, которую он решительно противопоставлял житейскому, натуралистическому.
Про Марьяненко Алексей Петренко и сейчас готов рассказывать часами, хотя, по собственному признанию, к числу старательных учеников не принадлежал и крови старому учителю попортил немало. Марьяненко открывал им хитроумные тайны актерского ремесла, учил полагаться не на вдохновение, а на умение упорно искать выразительную, точную метафорическую форму и закреплять. В школе Курбаса была, например, поразительно разработана техника речи, именно техника, относящая к числу обязательных навыков то, что вдругих театрах считалось достиженимо только вдохновением (в частности, молодые актеры учились сообщать своему голосу любую эмоциональную окраску, произвольно меняя резонаторы звука). Но на вопрос, что же было главным в том, чему их учил Марьяненко, Петренко отвечает: «Правда. Какая-то поразительная правда была в нем самом».
Рассказывает, как однажды на институтском вечере бывшие актеры театра «Березиль», все уже в преклонном возрасте, читали сцены из «Гайдамаков» Шевченко, поставленных Курбасом в 1920 году. Сценами из спектакля это нельзя было назвать — слишком много лет прошло. Но когда старый, грузный Марьяненко в неизменной профессорской шапочке, сердито глядевший на институтских шалопаев маленькими глазками-буравчиками, поднялся и начал читать монолог Гонты над трупами убитых сынов, сидевшие в зале увидели огромного человека с огромными же горящими глазами и были потрясены трагедией так же, как в том давнем, легендарном спектакле…
«Поразительная правда» — отзываются часто о работах самого Петренко. Тут не случайно присутствует эпитет поразительная. Правда Алексея Петренко, как, по-видимому, и правда старого Марьяненко — Гонты, как и правда, которую Курбас противопоставлял житейскому, то есть натуралистическому, есть нечто прямо противоположное жизнеподобию, которым нынче кто только не владеет. Такой уж наступил момент — естественность, органичность актерского существования на сцене или на экране, которую мы так ценили еще лет десять назад, превратилась в некое общее место, оказались едва ли не враждебной истине страстей. Не только театр, но и кино все внимательней всматривается в опыт тех актеров прошлого, для которых достоверность отнюдь не была главной или единственной заботой. Опыт молодого Ильинского, Гарина, Мартинсона и других комиков-эксцентриков, с одной стороны, а с другой— неистовый романтизм Николая Симонова и трагическая экспрессия Черкасова в «Петре Первом», в «Иване Грозном» оказываются злободневно значимы для современного искусства. Чтобы добраться до истины, сегодня актеру порою нужно выйти за границы достоверности, удивить, опрокинуть привычные ожидания, заставить увидеть мир в необычном ракурсе, поразить их открывшимся зрелищем.
После окончания института Петренко проработал три сезона в небольших театрах на Украине, а потом ему повезло еще раз — Игорь Петрович Владимиров взял его в труппуЛенинградского театра имени Ленсовета. Может быть, второе везение в жизни Алексея Петренко сыграло даже более важную роль, чем первое, потому что в институте актер может учиться у самых лучших учителей, но все уроки пропадут втуне, если не понадобятся в том театре, где он будет работать. У Владимирова же ему понадобилось все… Кажется, режиссер владеет каким-то особым умением, в современном театре чрезвычайно редким, — извлекать из актера максимум, на который тот способен. То ли собственный актерский опыт помогает Владимирову, то ли школа Г. А. Товстоногова, через которую он прошел, но факт налицо: тогда, в начале шестидесятых, он набрал в труппу молодых, совсем еще зеленых ребят, а нынче они — ядро театра и его гордость, знаменитые и заслуженные. Вот в эту компанию и попал в 1964 году Алексей Петренко. Бегал в массовках, играл эпизоды и постепенно становился все заметнее, все интереснее. Дело в том, что в ярком, громком, шумном, зрелищном, технически сложном современном спектакле Владимиров не забудет оставить актеру, даже если он занят в крохотной роли, место для соло, пространство для импровизации, если, конечно, артист на соло способен. Владимиров хорошо знает, что никакими постановочными ухищрениями артиста в театре не заменить, потому что спектакль — это диалог сцены и зала, а диалог могут вести только живые люди.
В маленькой роли Бьенделло из «Укрощения строптивой» (на долю персонажа в пьесе не приходится и десяти фраз) Петренко демонстрировал виртуозное владение техникой комического гротеска.
Из-за кулис раздавалась громогласная серенада — чистейшее бельканто. Но обладателем столь прекрасного голоса оказывался обшарпанного вида здоровенный малый, согбенный под тяжестью тюков и пропыленный пылью дорог Италии. Вдобавок при переходе на прозу он начинал шепелявить и заикаться. И так во всем актер постоянно нарушал наши ожидания, вызывая смех в зале: у Бьенделло огромные кулаки и разбойничья физиономия, но он добродушный малый. Бьенделло очень старается повсюду успеть — так что пот градом, но в разгар всеобщего веселья вы увидите его в тихом уголке с книжкой в руках, а то и с вышиванием. Он вроде бы со всеми вместе пляшет, со всеми поет, а на самом деле сам по себе, и бог знает, что на уме у этого верзилы, который прикидывается простачком.
А на другой день в «Преступлении и наказании» Петренко играл трагическую рольСвидригайлова. В странном замедленном ритме, будто прислушиваясь к чему-то в себе, жилСвидригайлов. Рассказывал Раскольникову про вечность, о которой все думают, будто она что-то огромное, а там просто комнатка, вроде деревенской баньки, с тараканами по углам, — и смеялся почти беззвучно, захлебывающимся смешком. Он врывался неожиданно в его речи, тихий, странный смешок, и вдруг мы догадывались, что половиной души Свидригайлов уже там, в комнатке вроде баньки, слушает, как тараканы шуршат. А здешнее, земное существование продолжается по инерции, со слабой тайной надеждой: вдруг зацепит, воскресит его душу живое чувство.
В Театре имени Ленсовета за тринадцать сезонов Петренко сыграл полтора десятка ролей, но ни одна не повторила предыдущую. Владимиров придерживается мудрого правила: постоянно ставить перед актером новые непривычные задания, не давая ему успокоиться, остановиться в развитии. Режиссерский принцип позволяет выделить скрытые возможности актера, способствует расширению творческого диапазона. Оттого-то каждая роль (вне зависимости от количества текста) становилась для Петренко ступенькой вверх.
Владимиров же и сосватал Петренко в кино. Но потом в отношениях актера и режиссера наступил драматический момент: обнаружилось, что их художнические устремления, во многим совпадая, в чем-то существенном расходятся. Петренко-комик в театре был нужен, без его Платова, уморительного и грозного престарелого атамана, «Левша», любимый ленсоветовский шлягер, потерял половину остроумия и обаяния. Но для трагического актераПетренко в театре работы почти не находилось.
Он переехал в Москву и играл в Московском театре на Малой Бронной в спектаклях Анатолия Эфроса — «Месяц в деревне», «Женитьба». Сейчас работает в МХАТе.
Читателю сборника, посвященного актерам кино, предпринятое театральное отступление может показаться слишком обширным, но что делать: наш герой пришел в кинематограф не молодым начинающим актером, и мы не можем понять его иначе, чем оглянувшись, хотя бы мельком, на ту длинную дорогу, которую он оставил за плечами.
Театральный опыт Алексея Петренко сказывается в интенсивности актерского существования на экране. Складывается ощущение, что он как смертного греха боится оказаться типажом, содержательность которому придают ракурс и монтаж. В кадре, как на маленьком пятачке эпизодической роли в спектакле, Петренко разворачивает мощный запас собственных актерских выразительных средств. Он сочиняет роль, исходя из того, что написанный сценаристом текст — примерно одна десятая образа (так же как произносимые нами слова — весьма малая часть наших раздумий). Главное же зрителю рассказывают пластика, мимика, жест, ритм, интонация, манера речи, дыхание, костюм. Петренко знает о герое все, может сыграть его с ходу в любой ситуации. Если предусмотренное драматургом кажется ему недостаточным, готов тут же придумать целые сцены.
Так, на пробах фильма Динары Асановой «Ключ без права передачи» он сочинил эпизод в библиотеке, и кусок этот не только вошел в картину, но и оказал решающее влияние на ее общий смысл.
По первоначальному замыслу предметом обсуждения в фильме должны были стать разные способы воспитания школьников. Молодая учительница Марина Михайловна (эту роль вкартине играет Е. Проклова) придерживается крайне демократического метода, предпочитая быть с учениками на равных. Даже внешне ничем не отличаясь от своих подопечных десятиклассниц, она вместе с учениками бегает на лыжах, ходит на экскурсии, справляет чей-то день рождения, демонстрируя на деле весь арсенал средств так называемого неформального общения. Поведение молодой учительницы вызывает сомнения, недоверие и, наконец, настоящую ярость некоторой части ее коллег и родителей. Новый директор школы Кирилл Алексеевич должен был по ходу сюжета разбираться в остром педагогическом конфликте, возникшем вокруг слишком тесной дружбы 10 б и молоденькой учительницы, не оказывая существенного влияния на конечные моральные выводы фильма: ключом к детским душам, ключом без права передачи, конечно же, обладала Марина Михайловна, молодая прогрессивная героиня, сражающаяся с ретроградами.
А. Петренко поставил перед собой минимальную, но очень трудную задачу: его герой — лицо не действующее, а судящее; а зрители вместе со школьниками должны поверить в его право на суд и в правоту его суждений. Артист сделал точный и очень характерный для него тактический ход. Он начал роль с кажущегося резкого снижения, почти компроментации героя.
Немолодой отставник получил направление на работу, к которой явно чувствует себя непригодным. Ему бы в школе максимум завхозом работать и кружок автодела вести: вон как озабоченно проверяет шпингалеты на окнах, с каким удовольствием, облачившись в ватник и сапоги, выстраивает ребят у старого грузовичка, давая первый урок. А педагогика — такая премудрость Кириллу Алексеевичу явно не по силам. Сумрачно бродит новый директор по школе с незаженной папиросой в зубах: каждую свою акцию, каждый шаг он готов воспринимать как промах. И вот — сцена в библиотеке (повторяем, сочиненная артистом на кинопробах). Поздно вечером, сняв пиджак и распустив галстук, Кирилл Алексеевич сидит, обложившись штабелями книг и с тоской поглядывая на полки, взмокший от усердия и отчаяния. В крайнем смущении просит совета у молодой учительницы, чья эрудиция кажетсяему недосягаемой. И та, не скрывая высокомерного отношения к необразованному начальству, выдергивает из штабеля брошюру Януша Корчака «Как любить детей». Смиренной растерянностью интонации Кирилл Алексеевич как бы расписывается в служебном несоответствии. И вот тут-то вскрывается главный парадокс, секрет построения роли. Робость директора, неловкость его поведения, ощущение огромной сложности стоящей перед ним задачи свидетельствуют о такой трепетной любви к детям и таком чувстве ответственности перед каждым из них и за каждого из них, которые есть явный признак подлинного воспитательного дара, интуитивного постижения священного смысла педагогической профессии. Дар, светящийся в каждом взгляде, в каждом жесте Кирилла Алексеевича, постепенно, но мощно заполняет эмоциональное пространство картины, незаметно берет в плен и учеников, и зрителей. А в Марине Михайловне — Прокловой чем дальше, тем большечто-то настораживает, не дает проникнуться симпатией. И вот уже весь лирический ореол, которым окружают авторы фильма Марину Михайловну, не может спасти в нечаянно возникшем соревновании педагогов героиню Е. Прокловой с ее методом неформального общения. Ибо любой метод, не обеспеченный изнутри личностью педагога, бесплоден. Потому-то цепь кажущихся промахов и оплошностей нового директора странным для него самого образом приводит к возникновению и упрочению авторитета, дает ему в руки заветный ключ к ребячьим сердцам — ключ без права передачи.
Доказательство от противного — один из излюбленных актерских ходов Алексея Петренко. Избираемые им приспособления сплошь и рядом странны, парадоксальны и необычайно выразительны.
Собирается в дорогу, которая может оказаться последней в его жизни, руководитель одесского подполья Гаврила Семенович Черноиваненко (телефильм «Волны Черного моря»). Но вместо того, чтобы сжато и целеустремленно, как неоднократно происходило в аналогичных киноэпизодах, произнести несколько приличествующих важности момента слов, Петренко — Черноиваненко топчется на месте, нелепо шарит руками в пространстве вокруг себя, явно теряя дорогое время: «Где кепка? — растеряно бормочет он, хватаясь пятерней за лысину, — где моя кепка?» А мы замираем, потрясенные открывшимся нам, поразительным чувством ответственности этого человека за жизнь и смерть полуживых товарищей по катакомбам. В следующем эпизоде телефильма Черноиваненко встречается с Петром Бачеем, которого не видел много-много лет. Объятия? Устремленные друг на друга глаза? Ничего подобного. Раненый Черноиваненко тычет скрюченными пальцами в подсевшего к нему Бачея (отличным партнером Петренко выступает в этом эпизоде Э. Романов) и, оглядываясь по сторонам, несколько раз с большими паузами произносит: «Петька… Это же Петька…» И снова — давняя, детская, не забытая дружба бывшего Гаврика и глядящего куда-то в сторону, смертельно уставшего пожилого Петьки зримо входит в сцену, хотя ни о чем таком не произнесено ни слова.
И все же такие роли для Петренко — работа вполсилы. Он актер крайностей, исключительное интересует его больше, чем типическое, индивидуальное — больше, чем общее. Катастрофические ситуации, моменты высочайшего напряжения, резкие перепады. психологических состояний, горние вершины духа и пропасти нравственного падения, а с другой стороны — крайняя нелепость ситуаций и поступков, неадекватность реакции, фантастические сочетания, гротескные образы — вот что привлекает Петренко в первую очередь. И к жанрам он стремится крайним: драму склонен превращать в трагедию, комедию— в фарс, буффонаду. Он — острохарактерный актер в том смысле, что стремится к созданию острейших характеров, заострению внутренних противоречий образа.
По-настоящему его ролями в кино могли стать Петр Первый, Подколесин в «Женитьбе». Могли, но не стали.
В «Сказе про то, как царь Петр арапа женил» режиссер А. Митта явно сгладил взрывную противоречивость задуманного актером характера; по-видимому, уж слишком сильным оказалось обаяние симоновского романтического образа. Петренко близок к пушкинскому взгляду на эту любопытнейшую фигуру русской истории: в его работе подчеркнуто трагическое противоречие между колоссальной творческой энергией Петра и неразборчивостью в средствах осуществления планов (его указы, по замечанию Пушкина, «писаны кнутом»). Петр Алексея Петренко неистов в каждом движении души: рубит ли канаты, грозя гибелью недостроенному кораблю, или спасает тот же корабль, вытаскивая его на берег; казнит или милует; любит или карает. Он становится глух и слеп в такие моменты, и попытавшийся возразить ему — обречен. Не случайно в поцелуе, которым он награждает вернувшегося из Парижа любимца, вместе с отеческой нежностью прорывается что-то грозно кровожадное, властная воля собственника, предупреждающая о немедленной каре за малейшее ослушание. Выразителен и бешеный проход Петра сквозь толпу гостей на ассамблее: пригнув голову, набычившись, он врезает танцующие шеренги придворных. Мы еще не знаем толком, что за непорядок увидел он своим пронзительным оком в дальнем углу, но то, что навлекшийна себя его гнев может быть сию же минуту убит на месте, вне зависимости от того, прав он или виноват, не вызывает сомнений.
Сыгранное Петренко в фильме не случайно вспоминается кусочками, обрывками: места, отпущенного режиссером, хватило только на набросок какой-то будущей, быть может, работы.
С «Женитьбой» В. Мельникова произошла история, по-видимому, противоположная, а по сути— идентичная. А. Митта убоялся суровости пушкинской прозы, которая дала толчок его замыслу, и перевел сюжет «Арапа Петра Великого» в балаганный, скомороший план. В. Мельникову показалось, что описанное Гоголем «невероятное происшествие» уж слишком невероятно для реалистического кинематографа. Он старательно поработал над пьесой, погружая событие в быт Петербурга сороковых годов прошлого века, укрепляя логические связи. Актеры же (а Мельников собрал в свой фильм не просто известных, но по-настоящему хороших актеров), в первую очередь Петренко и Светлана Крючкова (Агафья Тихоновна), оказались гораздо ближе к сути гоголевской комедии. Они не испугались разрыва между причиной и следствием отгадав, что именно в разрыве и заключается ключ к смыслу пьесы.
Сцены Подколесина и Агафьи Тихоновны актеры играют так, что становится очевидно: эти двое друг другу на роду написаны. Они тянутся друг к другу страшно и натужно, словно между ними стоит какая-то неодолимая преграда. Но ощущение такое, что преграда не из дерева или камня, а из ваты.
Вот они остались одни, и Подколесин силится сказать что-то Агафье Тихоновне. Но никак неможет найти слово! На лбу выступают капли пота, в полуоткрытом рту тяжело ворочается язык, раздаются какие-то придушенные звуки, будто человек силится выпихнуть невидимый кляп, прерывается дыхание, и, наконец, после мучительных потуг рождается слово, явно не то, что хотелось, но Подколесин рад, что вырвалось хоть одно. И Агафья Тихоновна тоже рада — ведь она так боялась и так хотела услышать что-нибудь, так страдала, стараясь помочь мучительным родам слова, что едва ли не повторяла лицом все потуги Подколесина.
Они вместе смеются, говорят быстро, громко, перебивая друг друга, и опять надолго замолкают, и мучаются немотой. Отчего так желанен и так недостижим контакт между людьми? Вопрос так и остается без ответа, но и желание, и мучительное бессилие сыграны Алексеем Петренко в таких масштабах, в таком гротескном прихотливом чередовании, что невозможно отнести их за счет физиологии героя. Тут ощущается нечто большее, какая-то покалеченность души, отразившая общую дисгармонию жизни. Но что именно подразумевает актер, в фильме В. Мельникова так и осталось неясным. Выговориться до конца в роли Подколесина удалось Петренко только в спектакле Анатолия Эфроса.
Случайно или закономерно то, что самой значительной работой Петренко в кино на сегодняшний день оказался Слава Кулигин из кинофильма «Беда», человек, которого мы, столкнись с ним в реальной жизни, охарактеризовали бы однозначно: «алкаш»? Случайно в том смысле, что на основе литературного сценария И. Меттера девять из десяти режиссеровсняли бы дежурную картину антиалкогольной серии. Да и что, казалось бы, можно извлечь из такого сюжета: человек начинает пить, спивается, совершает преступление, попадает за решетку, раскаивается? Но фильм снимала режиссер Динара Асанова, которая работала с Петренко уже второй раз. Асанова и в «Ключе без права передачи», где Петренко вошел в почти готовую картину, заменяя предыдущего исполнителя, не побоялась довериться актеру, его сочинительству, с первоначальным замыслом режиссера не совпадавшим, и выиграла. В «Беде» же они работали на равных с начала и до конца. Атмосфера импровизационности вовремя съемок напоминала время комедии дель арте, когда участники договаривались лишь осхеме сюжета. Структура фильма во многом определена стилистикой игры Алексея Петренко: весьма незначительное количество словесного материала и огромная содержательность бестекстовых кусков; странные, на первый взгляд, но очень точные по сути детали, приспособления; крайнее обострение драматизма и сверхкрупные планы, вязь подробностей, глубина перевоплощения и вместе с тем преемственность тематики по отношению к предыдущим работам актера. Фильм почти целиком снимался снимался в рабочем поселке близ Ленинграда. Камера нарочито бесстрастно запечатлела нехитрую красоту здешних мест, осеннюю зябкую сырость, неприкаянную толпу мужчин у пивнушки, неожиданное, всекрасящее солнышко. В кадр вроде бы ненароком попало множество деталей, заверяющих места действия: именно то, что официально именуется «поселок городского типа», недавняя деревня, где по-прежнему все у всех на виду, но от патриархального образа жизни мало что осталось. Исчезло ощущение постоянства, неизменности: тебя все знают, и ты знаешь всех в лицо, не более того, потому что ты можешь завтра уехать куда глаза глядят, вернуться или не вернуться, а кто-то приедет неизвестно, поживет и уедет. Всеобщее знакомство поверхностно, формально и тягостно; соседство, как в городе, ни к чему не обязывает, но, как в деревне, дает право судить о чужих делах. В этих условиях разворачивается история Кулигина.
Пустили слух, что Славкина жена нагуляла ребенка на стороне. Никаких поводов к тому не было, может быть, просто кто-то зло пошутил, позавидовав безмятежному счастью Кулигиных. Но все повторяют, не заботясь о том, правда, нет ли, намекают со всех сторон, дают советы…
Больше всех старается дружок (Г. Бурков) — эдакий Яго из автопарка. А Славка, оказавшийся в ситуации Отелло, — здоровенный работяга с корявыми чертами лица, будто топором вырубленными, — вот уж точно не ревнив, а доверчив. Суть его характера актер выразил точно и остроумно в одной детали: к промасленному Славкиному ватнику простодушно и хозяйственно прикреплены резинкой брезентовые рукавицы. Идет верзила, а они болтаются на ходу, как у малышей из детсада. Но простак из простаков, который в трезвом состоянии и муху не обидеть не способен, напиваясь, на глазах звереет. Не сразу — сначала он долго объясняется всем в любви и дружбе, и это чистая правда: Славка по природе своей расположен ко всем на свете, и обнаруживать это в нормальном состоянии ему мешает только застенчивость, забавная и трогательная в таком огромном человеке. Но пьяный, заслышав крик: «Наших бьют!» — он не глядя хватает бутылку за горлышко, одним движением скалывает ее о батарею и замирает, озираясь со страшным оружием в руках, готовый бить и убивать.
В вытрезвителе, едва очнувшись, заплетаясь ногами и руками, он кидается укрывать одеялом раздетого дружка. Придя в себя, мучительно стыдится всех: матери, жены, капитана милиции, ведущего с ним формальную воспитательную беседу. Опять напивается — и крушит мебель, бьет посуду, ревет нечеловеческим голосом, а потом дрожащими руками пытается засунуть в рот жене таблетку валидола, подносит нашатырный спирт в закупоренном флаконе. И опять не знает, куда деваться от стыда и отчаяния, прячет лицо в руки, руки в колени, сгибается пополам, стараясь стать меньше, если уж невозможно исчезнуть тут же, на месте.
Родные уговорили его пойти к врачу, и вот он сидит на приеме, припертый к белой стеклянной стенке, за которой мелькают чьи-то спешащие тени, мучается тем, что отнимает время у доктора, который занимается его, Славкиной, персоной, вместо того чтобы бежать куда-то вслед за тенями. Не поспевает за быстрыми вопросами врача, долго выбирает слово, потом с трудом пристраивает к нему следующее, повторяет их так и эдак, ища продолжения, и, не найдя, бросает. Заикается, бормочет, повторяет какие-то междометия и только одну фразу выговаривает неожиданно четко: «Вот если бы злобу убрать можно было…» — определив то, что всего ненавистней ему в себе пьяном.
Петренко доводит до предела «pro» и «contra», все симпатичное и отталкивающее в СлавеКулигине. Актер безжалостно опубликовывает отвратительные животные подробности поведения персонажа: сидя на каких-то ступеньках, в грязи, Славка сливает опивки изброшенных бутылок, заглатывает чудовищную смесь и хватается за живот, стараясь вывернуть себя наизнанку. Но даже в том, как Кулигин совершает преступление, актер обнаруживает и подчеркивает какое-то детское простодушие: увидел блеснувшие в лунном свете горлышки заветных бутылок, выбил локтем стекло ларька, неуклюже залез туда по пояс, вытащил несколько «маленьких», рассовал по карманам, из одной тут же, у ларька, хлебнул и свалился в блаженном забытьи. Так и подобрала его милиция на месте преступления.
В фильме все сыграно более отрывисто и более подробно, чем получается в пересказе. Ощущение такое, будто в чьей-то голове теснятся воспоминания-кошмары, долгие, тягучие, подробные. Наступают друг на друга, обрываются, возникают вновь неожиданно, с середины. А потом большим куском, в совершенно ином ритме, снятый и сыгранный эпизод: свидание с матерью в исправительно-трудовой колонии.
К ней выходит другой человек — напряженный, жесткий, чужой. Будто больше всего на свете боится проронить покаянное слово. Быстрым, профессиональным жестом засовывает деньги в буханку хлеба, не запнувшись, не дрогнув голосом, чтоб не заподозрила охрана. Отмалчивается о главном, обрывает мать. Но ночью, на соседней с ней койке, он засыпает в той позе, в которой спят только дети, когда они счастливы: на спине, вскинув руки за голову. Для тех, кому знакома эта детская поза — открытая, доверчивая, — можно было бы в этом месте роли поставить точку. Для остальных есть более традиционный и откровенный финал: в последнюю минуту прощания Слава вытаскивает из-под фуфайки неведомо как припасенный платок (взамен того, что продала мать, собирая деньги на дорогу к сыну), насупясь сует обратно старушке заветную буханку с тайничком и плачет вместе с ней, как больно побитый мальчишка, вытирая слезы кулаком.
В работе Алексея Петренко нетрудно уловить мотивы, знакомые по предыдущим ролям актера— при всем внешнем их несходстве, — в «Двадцати днях…», в «Женитьбе». Его занимает, заставляет возвращаться к себе вновь и вновь одна ситуация. В общем виде ее можно описатьтак. Жил человек, крепко укорененный в определенном укладе. Здоровый, чуждый рефлексии. Жил по тем же неколебимым законам, что его отцы и деды. Твердо знал, что хорошо, что плохо. И вдруг что-то случилось, что-то изменилось в окружающем мире: началась война, или деревня стала превращаться в городок, или просто кончился срок жизни привычного уклада, или совершились какие-то события, касающиеся человека лично, но слишком неожиданные и важные. В результате оказалось, что на привычные законы опереться уже невозможно. Нужно заново самостоятельно решать, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. Нужно найти новую точку отсчета, новую систему ценностей, сделать выбор и стать личностью. Либо— отказаться от выбора, поплыть по течению, подчиняясь инстинктам толпы, своим прихотям, обстоятельствам, и не стать личностью. Ситуация первой рефлексии, в которой Алексей Патренко видит источник комического и трагического, одна из острых и социально актуальных в быстро меняющемся мире.
Наверное, здесь таится причина стремительной кинематографической карьеры актера. Но не единственная. Кинематограф не случайно сегодня гораздо чаще привлекает к работе актеров театра, чем десять лет назад. Характерная для шестидесятых годов тенденция к документальности требовала правдивости и не более того. Сегодняшнее кино, с его тягой к зрелищности, образности, нуждается в актерах гораздо более высокого уровня художественного мышления, в тех, кто владеет арсеналом выразительных средств. Но одно требование при этом остается в силе — требование собственной позиции, мироощущения. Требование человеческой неповторимости.
Это качество ощутимо в работах Алексея Потапенко сполна. Они отмечены незаурядным темпераментом, парадоксальным чувством юмора, истовой устремленностью к сути.